 Соловки
Соловки

Рождественка соловецкая
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2000
1999
1993
Волчья тропа
С Мариушем Вильком беседует Станислав Бересъ
Журнал “Новая Польша” № 5 2001 г.
СТАНИСЛАВ БЕРЕСЬ: Мне вспомнилась фраза Бездомного из “Мастера и Маргариты”: “Взять бы этого Канта, да... года на три в Соловки!”. Нет большего наказания, чем Соловки. А здесь передо мной человек, который поселился там по собственной воле. Для каждого это была бы ссылка; для тебя, как видно, нет.
МАРИУШ ВИЛЬК: Я там чувствую свободу.
- Не скрываю, что во мне мысль о жизни в России будит страх.
- Россия и Соловки это разные вещи. Соловки это Север, а не Россия. Первые следы человека на Соловках - известные лабиринты саами -относятся к неолиту, Русь же появилась на Островах - в виде монастыря - только в XV веке. Так что Россия в истории Соловков - всего лишь эпизод.
- Процитирую тебя: “На Соловках видна Россия, как в капле воды - море”. Разве Соловки не то же самое, что и Россия, только в концентрации.
- И да, и нет. В каком-то смысле Соловки шире, чем Россия, ну и старше. Да и свободы там больше, нежели в самой России. Дам тебе пример. Несколько лет назад я хотел зарегистрировать свое охотничье ружье. Поехал в польское посольство в Москву, изложил дело. Собрали целый “консилиум” во главе с военным атташе, совещались, соображали и решили, что я должен ехать в Польшу, вступить в общество охотников, два года быть кандидатом, а получив охотничий билет, купить ружье и официально ввезти его в Россию. То есть - я должен был начать эту процедуру с нелегального вывоза своей двустволки из России - ха! ха! Махнул на все рукой и вернулся на Острова, пошел к нашему охотоведу и поделился своей проблемой. А он мне на это: “Сбегай в магазин за бутылкой, а я пока выпишу тебе билет”. Назавтра с этим билетом и ружьем я пошел в милицию, где мне его тут же зарегистрировали. На Островах я знаю всех: и милиционеров, и воров, и главу администрации, и депутатов, и почтальона, и продавщиц. И они меня тоже знают. Если я иду в магазин, а денег нет, дают под запись.
- Но все-таки нужно иметь какие-то деньги. Я каждый месяц иду в университетскую кассу и какую-то, хоть и недостаточную, зарплату получаю. У тебя же нет никакой зарплаты, и, вероятно, немногие из жителей Соловков получают ее регулярно. То есть de facto не с. чего жить. Из твоей книги следует, что живут с того, что посажено, вскопано, собрано.
- Ну да. Летом собираешь грибы, ягоды и сажаешь картошку, зимой ставишь сети подо льдом.
- Говоришь: ставишь сети подо льдом, -этому надо было где-то научиться...
- Приезжай, покажу тебе. Этого не расскажешь.
- Сказки, почему тогда, много лет назад ты выбрал филологию?
- Потому что я люблю слова. Меня часто спрашивают, кто я: православный или католик? Отвечаю, что филолог. Когда же вижу круглые глаза, то добавляю: “В начале было Слово...”.
- Но что тебя тянуло в этом направлении? Ты писал стихи, например?
- Ой, старый, не вспоминай. Это такая древняя история, что нет смысла о ней говорить.
- Ну, хорошо. Оставим Вроцлав, университет, Студенческий комитет солидарности. Что было потом?
- Бунт и забастовка, рэгги и марихуана - все разом.
- А потом был Лех Валенса. И как тебе с ним?
- Ба, это один из худших эпизодов в моей жизни. Когда становишься чьим-то пресс-секретарем, перестаешь быть собой.
- И поэтому ты оставил Валенсу?
- Нет. Ни я не оставлял Валенсу, ни Валенса меня. И вообще, зачем мы говорим о Валенсе?
- Потому что это элемент твоей биографии. В какой момент ты понял, что не любишь политику?
- Я не любил ее с самого начала.
- Так зачем же ты стал пресс-секретарем Валенсы?
- Наверняка не затем, чтобы делать политику. Просто хотел помочь ему формулировать мысли, научить пользоваться словами. Если помнишь, у Леха были такие странные высказывания, вроде бы он за и одновременно против - речь шла просто о том, чтобы ему помочь.
- Мариуш, но как вообще такой парень как ты оказался около Валенсы? Раньше ты был обычным студентом, крутился между нами, и вдруг в один прекрасный день мы увидели, что ты его пресс-секретарь. Откуда это взялось?
- Меня достало... Что нельзя свободно говорить, что нельзя писать, о чем хочется, что нельзя читать Милоша, Гомбровича и Херлинга. Если обобщить, то моя оппозиция - это бунт против кляпа во рту. Бунт, протест, сопротивление - и только. Никакой политики. А потом, уже когда я приехал в Гданьск, оказалось, что дело не только в кляпе, но и в людях, которые ждали от нас помощи. Ждали, чтобы мы сформулировали то, чего они хотели и требовали. Так началась “Солидарность”. А потом было военное положение...
- Сколько раз ты сидел?
- Это неважно. Тогда было важно, что я - с рабочими, которые тоже не занимались политикой. Просто все это их достало, как и меня. Всех нас достали!
- Ладно, не интересовала тебя политика. Но все-таки в какой-то момент ты сориентировался, что сидишь в ней по уши. Когда?
- В 1988 году. Круг замкнулся. В 1980-м в гданьской судоверфи переговоры с правительственной делегацией транслировались по радио и рабочие хорошо слышали, о чем идет речь, о чем переговоры. А в 1988 году никто ничего не слышал - все пенопласт1 заглушал. Они (я имею в виду Валенсу, Геремка, Мазовецкого...) летали в Варшаву и улаживали все дела с “красными” в своем кругу. С Верфи мы вышли через разные ворота: они за “круглый стол”, а я с Грабарем, Понурым и еще несколькими ребятами - каждый в свою сторону.
- А ты не думал тогда, что у тебя есть в жизни шанс, за который можно ухватиться?
- Мне на это наплевать. Плевать на политику и политиков.
- Однако, когда будут писать о “Солидарности”, рядом с лицом Валенсы появится и твое лицо и фамилия.
- Наплевать и на это!
- А как ты сегодня относишься к Валенсе?
- Сегодня, гм...? В то время это был мировой парень, которому хотелось помочь. Потом он стал игроком, а когда начинаешь играть - остаешься один.
- Что было потом?
- Потом? Я пошел своей тропой. Те поехали в столицу делать политику, а люди с верфи и из порта остались. Одни.
- Но, может, те поехали делать политику для них?
- Нет, вовсе нет. Они делали политику для себя... под себя - если хочешь. Впрочем, и сегодня все делают исключительно под себя. Все под себя: и бабки, и кресла.
- Твои друзья сидят за министерскими столами, тебе же пришла в голову удивительная мысль - выехать на Соловецкие острова. Почему?
- Сначала была Россия, куда я приехал прямо из Штатов. И сразу, на здравствуй, встретил там людей, которые не говорят “nice to meet you” с кретинской улыбкой, а лишь выкладывают все, что есть в холодильнике, и сидят с тобой до утра, говоря по душам. Потом увидел пространство, ту одну шестую суши, от Ледовитого океана до Черного моря и от Смоленска до Камчатки - без виз, без границ. В этом пространстве было все: православие и буддизм, ислам и шаманизм, оленеводы, сибирские охотники и столичная мафия, нищета в глубинке, казино в Москве (как в Лас-Вегасе), чумы на Ямале, rock в Питере, война на Кавказе, контрабандисты анаши, зоны в Ерцеве... Всего не перечислить. А потом, когда выучил русский, добавились книги, безмерность русской литературы, не только, кстати, художественной.
- Ты веришь в предопределение?
- В предопределение? Нет, но верю в волну.
- Что значит волна?
- Волна...? Одна уходит, другая приходит, а ты сидишь на берегу Белого моря и смотришь. А если хочешь, чтобы она тебя унесла, то не гони ее, упаси Боже - просто ляг, следующая тебя подберет.
- Это более или менее то же самое, что я назвал бы предопределением. Но если хочешь, -можем называть это волной. Меня интересует та, которая унесла тебя из Польши в Россию.
- Могу тебе о ней рассказать, но это будет длинная история. Летом 1988 года я встретил в Западном Берлине девушку - Машу П., дочь немецкого журналиста, корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung, который еще до войны работал в Москве, потом отсидел немало лет в лагере, а выйдя, вернулся в Бонн, где ему не понравилось, и снова приехал в Россию. Маша родилась и воспитывалась в Москве, и лишь после смерти отца мать забрала ее в Германию. Но Маша любила Россию, и жить без нее не могла. В то время, когда мы познакомились, она каждые полгода ездила в Москву, у нее там была куча приятелей, а когда крепко выпивала, одевала офицерскую фуражку, купленную на Арбате, и пела перед зеркалом русские частушки. Так вот, во время одной из попоек она сказала мне, что на ее взгляд - настолько, насколько она меня узнала -лучше всего я буду чувствовать себя в России. Что эта страна как раз для меня. Я смеялся до слез - я и Россия? Моих стариков поперли из Львова, следовательно, из дома я вынес русофобию, потом оппозиция... Но Маша стояла на своем и добавила, что мне надо ехать в Россию через Америку - для контраста. А вскоре так сложилось, что я попал в Штаты. Нужно было там с чего-то жить, и мне пришло в голову написать книгу о Гданьске.
- Это было уже после “Нелегалов”?
- Да. “Гданьск: история открыта” - так должна была называться новая книга. Но старый профессор Мандельбаум сказал мне: “Послушай, Польша уже неактуальна. Возьмись за Россию -она всегда будет на волне. Если войдешь в тему, сможешь ею жить до конца жизни”.
- И это был переломный момент?
- Нет, он пришел только зимой 1990/91 года. Тогда я жил на Кейп-Код, в доме на берегу Атлантического океана - совершенно один. Одиночество учит сути вещей, - писал Бродский в “Колыбельной Трескового мыса” — ибо суть их тоже одиночество... Вечерами ходил в бар. Бармен-мексиканец, неизвестно почему, принимал меня за русского. Я ему, естественно, объяснял, что Польша и Россия - это две разные страны, но до него это не доходило. Как-то прихожу в бар, а он мне: “Хай! Сегодня пьешь за мой счет”. Спрашиваю: “Почему?”. А он мне на это: “Сегодня ваши взяли Вильнюс”. Вот тот решающий момент, когда я понял, что Империя разваливается и надо быть там, чтобы это увидеть. Так все вместе сложилось: и Вильнюс, и Маша, и Мандельбаум. И еще шутка - в интервью одной американской газете я сказал, что если Валенса станет президентом, то я попрошу политического убежища в России. Что ж, Лех выиграл, мне оставалось дошутить до конца.
- Ты выехал тогда как репортер?
- Не люблю ярлыков типа: репортер, писатель, поляк, католик и тому подобных. Ясно, нужно было иметь какую-то “крышу”. Я обратился в знакомую газету, которая, правда уже дышала на ладан, но еще успела меня аккредитовать. В Москве встретил Веронику, газета тем временем разорилась, и я должен был принять решение: уехать из России или в ней оставаться -рассчитывая лишь на себя. И я остался, чтобы увидеть, что произойдет.
- И так начались твои скитания по России? Но ты уже не был корреспондентом никакой газеты. Значит, это был другой опыт - не профессиональный, а скорее джеклопдоновский. На фоне войн, наемников и Дудаева.
- По-разному бывало. На Ямале мы с вроцлавским телевидением снимали чумы ненцев и Стройку-501 - последнюю затею Сталина, в Чуйскую долину я ездил с контрабандистами анаши, в Вологде читал доклад о творчестве Шаламова, в Тайвенге, недалеко от Ерцева, покупал дом в колхозе... Фридрих Горенштейн, один из моих любимых русских писателей, сказал как-то, что жизнь в России - это профессия. И если не живешь в России, а только ездишь по ней -репортером или корреспондентом - то, даже будучи сверхпрофессионалом в своем деле, относительно жизни в России останешься дилетантом.
- На Кавказе ты встречался с Джохаром Дудаевым и Звиадом Гамсахурдиа. Потом поехал на войну в Абхазию. Как ты там себя чувствовал?
- А как себя чувствуешь, когда едешь на газике, и вдруг начинают свистеть пули, а на тебя брызжет кровь человека, сидящего рядом, и ты видишь, что он уже умер. Хреново! Вообще не о чем говорить.
- Оттуда ты впервые поехал на Соловки?
- Да, прямо с сухумского пляжа, забрызганного соком мандаринов и кровью. А на севере было тихо и спокойно.
- Ну, знаешь, поехал с войны туда, где убили кучу людей. Стало быть, сбежал от одного убийства к другому, только присыпанному снегом и землей.
- Не совсем. Вот, к примеру, соловецкая картинка: осень, бабье лето, лес разноцветный и полотно узкоколейки среди озер - по нему мы с Вероникой идем, ища грибы. Время от времени нас обгоняют туристы, какие-то норвежцы, финны, у костра сидят итальянцы, сосиски жарят и под гитару поют. А полотно это сделали зэки... Но ведь пирамиды в Египте тоже рабы построили, что не мешает турфирмам их рекламировать.
- Я думал, ты поехал на Соловки, чтобы увидеть, что осталось после концентрационного лагеря?
- Поехав на Острова, я не знал точно, куда еду. Просто мой друг из Архангельска купил нам билет на теплоход. Мы ехали на пару дней, а остались на... года.
- А что? Так было клево?
- Все вдруг как бы замедлилось, весь этот бешеный ритм жизни, постоянный бег с 1978 года - с оппозицией, забастовками, подпольщиной и развалом берлинской стены, с московским путчем и абхазской войной. Сначала я не думал там оставаться, хотел пару дней отдохнуть.
- Как же так сложилось, что случайный приезд обернулся поселением? Ведь, в конце концов, ты купил там дом и остался...
- Дом купил позже, через год, а понравилось мне там сразу.
- Природа, люди?
- Это тоже, но, прежде всего, тишина, сосредоточенность.
- Почему ты начал писать для Гедройца?
- Потому что это был старый, мудрый человек, понимавший все, что писалось до него. Он никогда меня не поправлял. В течение пяти лет, пока я работал для “Культуры”, Редактор не изменил у меня даже запятой.
- А откуда он о тебе узнал, ведь не из газеты же?
- От Херлинга. В 1992 году, еще до Абхазии, я поехал в Ерцево посмотреть, что осталось от лагеря, где сидел автор “Иного мира”. Представь себе мое удивление, когда оказалось, что этот лагерь функционирует по сей день. Потом, уже с Островов, я написал об этом Херлингу, он процитировал мое письмо в своем “Дневнике”, и в один прекрасный день я получил от Гедройца письмо с предложением сотрудничать. Так все и началось.
- Когда у тебя родилась мысль, чтобы написать о Соловках книгу?
- Это рождалось постепенно, на страницах “Культуры”. Один текст, второй, третий, четвертый... И в какой-то момент начал вырисовываться контур чего-то большего.
- Я нашел в твоей книге такие строки: “Как однажды ледник нанес сюда кучу камней, так сегодня жизнь селит тут всякий человеческий хлам. Мечтателей и дураков, поэтов и аутсайдеров, неудачников, свихнувшихся, мистиков и беглецов”.
- Не я это придумал, а Мельница.
- В общем, речь идет о специфическом типе людей, одержимых Островами, которые приезжают на мгновенье, а остаются на всю жизнь...
- ...это называется “осоловеть”. Туда попадают разные люди - одни приехали за “длинным рублем”, другие - в поисках вдохновенья или приключений, а иные, чтобы молиться и грешить. Но бывают и такие, которые бегут от себя или от мира. Если от мира, то о-кей, ибо там они смогут себя найти. Если от себя - плохо, ибо на Островах сходят с ума, вешаются или спиваются насмерть.
- Из твоей книги возникает картина общества, спившегося до бесчувствия. Поляки тоже пьют. Но это русское питье какое-то иное, исступленное, насмерть. А если вдобавок все пьют “шило”, то есть технический спирт...
- Не все. “Шило” пьют единицы, большинство пьет водку.
- Пьют от безнадежности?
- Не только. Пьют и от безнадежности и с надеждой, пьют с горя и от радости, пьют, чтобы не думать или наоборот подумать, чтобы врубиться или вырубиться. Пьют по страшному, до крайности, по-русски, как и все, что делают -от сердца. Нет в этом расчета, нет страха потерять “по пьянке” лицо, что я не раз видел на Западе, особенно в Штатах. Откровенно говоря, большинство встреч в России я не могу себе представить без водки. Но настоящий бич России - это запой: непрерывный, много дней, недель... Даль приводит массу русских поговорок, связанных с запоем, например: “Год не пьет, два не пьет, а как запьет, все пропьет”. Из запоя очень трудно выйти собственными силами, в русских газетах есть масса объявлений, в которых врачи-специалисты предлагают свои услуги в этой сфере. Часто после промываний, капельниц и других процедур, запойного “кодируют” или “зашивают”, и если он сам “раскодируется”, то есть начнет снова пить - умирает. Несколько моих знакомых на Островах умерли таким образом. Это как с миной: можешь на нее встать, но не пробуй сойти.
- Ну, хорошо. А каков твой вариант? Что ты среди них делаешь? Пьешь с ними?
- Иногда пью, беседую, живу. И сочувствую -это очень важно, чтобы понять Россию! Безансон утверждает, что Россия требует от тех, кто ее изучает, соучастия в своих бедах - таким образом французский советолог прочитывает послание Тютчева в известном четверостишии, которое я взял эпиграфом.
- А кто ты для них?
- Иностранец и поляк, иногда соловецкий, чаще сам по себе - всего понемногу.
- Но, наверное, они не сразу тебя приняли?
- Два года должны были пройти. Сначала приглядывались: приехал сюда какой-то, наверно бизнес делать, может за подлодками шпионить? Ну, а потом, года через два, оказалось, что на рыбалку хожу и картошку сам сажаю, и так потихоньку становился своим.
- А как оттуда выезжаешь, то тоскуешь?
- В прошлом году был пару недель в Париже. Когда вернулся домой на Сельдяной мыс, почувствовал, что вернулся к себе.
- Но ты всегда можешь уехать. Значит, ты не такой, как они. В конце концов, неясно: свой или чужой?
- Больше чужой, чем свой.
- Чужой, т.к. можешь уехать. Если бы захотел...
- Это не так. Я чужой, потому что веду свой образ жизни, не всегда им понятный. Они ведь не знают, сколько часов ежедневно я торчу за компьютером, сколько должен прочитать, чтобы один абзац накропать. Они видят, что в то время, когда другие сидят или должны сидеть на работе, мы загораем перед домом, что не зависим от невыплаченных зарплат и пособий и в этом смысле не делим с ними их бед... Но одновременно что-то нас связывает, поскольку циклоны и морозы нам так же докучают, как и им, мы одинаково ждем задержавшейся почты, а каждая авария водопровода или электростанции - это наша общая проблема.
- Поговорим о любви. Как там любят?
- Думаю, так же, как и везде. Если любишь, это тебя заполняет по уши - как здесь, так и там. Может только россиянки чуть менее эмансипированы, чем польки, зато более женственны: не феминистки, а бабы - в хорошем значении этого слова. По-матерински заботливые, даже чересчур, т.к. мужики при них не взрослеют, как бы за юбкой спрятались, только рыбалкой живут, да охотой. Ира из Кеми, хозяйка магазина с товарами для домашних животных, как-то доверительно мне сказала, что бизнес идет слабо, и она хочет полмагазина оставить для собак и кошек, а в другой половине оборудовать секс-магазины для женщин. Видя мою удивленную мину, добавила, что мужики если не в лесу, то в море, месяцами.
- Из твоей книги следует, что там ужасная распущенность нравов.
- На Островах можно найти и дешевую блядь и настоящую любовь - совершенно так же, как в Польше.
- И женщина, разумеется, играет у тебя огромную роль?
- Разумеется.
- Кто те люди, которые живут на Соловках? Я представляю себе - возможно наивно - что там сидят главным образом бывшие заключенные (или их потомки), которым некуда было вернуться, вот и остались навсегда; а также бывшие охранники лагерей и их семьи.
- Старик, забудь о лагерях. Это уже ушло. Все смотрят на Острова только с перспективы лагеря, а там пересекаются следы человека эпохи неолита с монастырской традицией, корни которой тянуться в египетскую пустыню IV века. Туда каждый сезон валят толпы туристов со всего света, проходят регаты. Есть гостиницы, бары и дискотеки...
- Ладно, но когда ты туда ехал, ты еще этого не знал. Ты это знаешь сегодня. Тогда же ты ехал на Соловки увидеть лагерь. Больше как журналист, нежели как странник.
- Что ты несешь? Я туда ехал потому, что война уже надоела. Говорил же тебе. Там была тишина и покой. И только.
- Хорошо, пусть так. Поехал туда отдохнуть и поселился навсегда. Вокруг тебя какие-то люди. Ты говоришь с ними, пьешь, ловишь рыбу - идиллия. Если бы я жил на Соловках, меня больше всего интересовало бы, что вокруг меня люди, которые раньше были заключенными и палачами...
- Там нет уже ни бывших заключенных, ни, тем более, палачей. Всех вывезли в 1939 году. Да, есть одна женщина, которая приехала на Острова искать следы отца. Следов, правда, не нашла, но осталась и живет в лагерном бараке, который по документам давно списан. Недавно умер К., бывший лагерный служащий, с которым я пробовал разговаривать, но у него был такой склероз, что он ничего не помнил. До прошлого уже не докопаться. Концы в воду.
- Меня бы, однако, заинтересовал такой товарищ. Каким образом функционирует мозг палача и мучителя? Что позволяет ему убить другого человека и жить дальше без чувства вины?
- Почитай Шаламова. Меня интересует нечто другое: почему после всего, что они перенесли, россияне снова тоскуют по сильной руке? Сегодня говорится, что Россия возвращается к православию и либеральной экономике. А я считаю, что Россия хочет опять иметь такого вождя как Сталин - того, кто скажет им, что они должны делать.
- Если им необходим палач и одновременно батюшка, то, пожалуй, нас должно интересовать, как функционирует голова такого правителя, который распоряжается человеческой жизнью?
- Речь не о палаче, а о человеке, который весь этот бардак возьмет в свои руки.
- Возьмет и сразу начнет убивать.
- Ну, почему же сразу убивать? В деревне Пушлахта на Летнем берегу мне жаловался бригадир местного колхоза, что никто сейчас не хочет работать. “В 50-е годы - говорил он - раз не выйдешь на работу - получишь выговор, а за второй прогул - десять лет ссылки. И все работали как один. А сегодня только выпить ищут”.
- Соловки - это типичная российская провинция?
- Напоминаю тебе, что это Север, а не Россия.
- Чем это отличается? Долгая зима, остров отрезан от континента, нужно рассчитывать только на самого себя. Я бы сказал, что это проблема иного ритма жизни. Но это все равно Россия.
- Нет, нет. Там живешь как на краю света. Это не Россия и не край России. Там кончается мир... Мир культуры, цивилизации. Дальше пустота -лед и молчание.
- То, что говоришь, звучит для меня, как метафизика. Мне не за что ухватиться. Ты не даешь мне ничего конкретного, как будто этого не высказать словами.
- Этого и не выразишь словом.
- Ты хочешь непременно навязать мне свой образ учителя жизни, который сидит на берегу Белого моря в северном сиянии и созерцает бесконечность, тьму шаманизма. А тем временем - как бы без твоего участия - кто-то издал “Волчий блокнот”. Но нет, есть и то, и другое. Есть восхищение этим местом, но и ежедневная писательская пахота за столом.
- Конечно. Ведь в конце книги я пишу: “Хочу сказать, что текст более реален, чем мир, который для текста лишь предлог”.
- Я понимаю так, что Соловки — это одна огромная бесформенность, возможно, такая же, как вся Россия, следовательно, если все это не будет записано, то этого не будет. Ты, вероятно, чувствуешь себя как Бог, который должен эту Атлантиду спасти для мира.
- Ну, таких амбиций у меня нет.
- Но это написано в твоей книге прямым текстом. Цитата за цитату: “В ходе работы я заметил, что мир Дальнего Севера аморфен, хаотичен, а здешняя реальность лишена очертаний. Намеки цивилизации, которые тут возникли, уничтожил совок. В природе доминируют вода, лед и топь - элементы бесформенные. В этой ситуации повторение дороги потеряло смысл, как поиск следов в болоте. А само писание побежало своей тропой, находя в языке почву более твердую, нежели покрытие тундры”. И далее: “Этого света не будет, если он не будет объят словом”.
- Обрати внимание, что речь идет о моей тропе, а не о каком-то объективном образе мира... Тропы протоптанной в словах. И в этом смысле я более верю в то, что записано, чем в то, что вообще принято называть “объективной реальностью”.
- В том, что ты говоришь, заключается старое как мир высокомерие художников. То есть вера, что твои тексты прочней мира, в котором ты живешь. Ты действительно думаешь, что этот клочок бумаги, который есть твоя книга, долговечней острова, который носил сотни поколений монахов и мучеников?
- Не думаю, чтобы моя книга была долговечней, чем Остров, зато утверждаю, что для тебя, например, она более реальна. Пока ты сам туда не поедешь, но тогда это будет уже твоя тропа. А история, что ж... Картину Соловков прошлого века дает нам книга Немировича-Данченко, кто же захочет когда-нибудь узнать, как жили люди на Острове в конце XX века, обратится, вероятно, к “Волчьему блокноту”.
- Да, но тут рождается вопрос: что действительно важно? Если ты возвращаешься на Соловки за материалом для очередной книги, это значит, что люди, среди которых ты живешь, служат тебе только сырьем. Есть, впрочем, в “Волчьем блокноте” сцена, где Тоня говорит с горечью, что ты смотришь на них как на мясо, которое продаешь в газеты.
- Но она при этом делала то же самое. И этот спор нескончаем. Тоня уже умерла, а спор длится - благодаря книге. Если я пишу, к примеру, о Брате, то он в каком-то смысле останется. Когда-нибудь наверняка умрет, но останется в моей книге. И люди спустя годы смогут прочитать, как жил Брат и как умерла Тоня.
- Я задумываюсь, не испытываешь ли ты там страха. У тебя и твоей жены пет там никаких шансов, никакой помощи. Помню потрясающее описание больницы, где можно только сдохнуть. Я бы боялся, что заболеет у меня ребенок или жена.
- Я тоже боюсь.
- Так что же ты делаешь, когда болеешь?
- Перестаю есть. Это единственная возможность спасти себя.
- А если серьезно заболеешь?
- Умру.
- Не боишься смерти?
- Смерть - это серьезная тема. Глупо, что мы с тобой так стоим. Разговор о чем-то столь важном нужно вести сидя.
- Ну, так сядем. Разговаривая о Соловках невозможно не думать о смерти.
- На Островах смерть удивительно соприкасается с прекрасным. Юля М., соловецкая поэтесса, написала, что листья к старости желтеют или краснеют, как бы на бал собирались, а потом падают, кружась, и думают, что танцуют, а это как раз и есть смерть.
- Ты говорил раньше, что на Соловках замерла память о лагере, а мне кажется, что в каком-то более глубоком смысле это неправда. На земле, которая впитала в себя кровь и пот сотен тысяч людей надо думать о смерти. По-моему, в тебе дремлет инстинкт гиены, которая идет тропами смерти...
- Ой, не гиены. Скорее волка2.
- Ты ездишь по России, которая была самым большим концентрационным лагерем на свете, лезешь в места, где убивают, вынюхиваешь трупы...
- ...я тебя сейчас съем.
- Как-то буду защищаться. Сидишь на Соловках, которые аж смердят от смерти. Видно есть в тебе какая-то мрачная потребность пребывания в таком месте.
- Знаешь, Сташек, ты все время не можешь избавиться от стереотипа: “Соловки-лагерь”. А ведь соловецкий лагерь существовал всего шестнадцать лет, в то время как история соловецкого монастыря насчитывает пять с половиной столетий, саамские же лабиринты -около пяти тысяч лет. Конечно, мотив смерти красной нитью проходит через Острова, через все этапы их истории. Возьмем лабиринты. Острова -по вере народов Севера - это потусторонний мир, да и самый Север отождествляют с царством смерти, и это неудивительно: например, академик Виноградов пишет, что лабиринты саами - не что иное, как остатки неолитических захоронений. Или монастырь - ведь главный девиз монахов: memento mori. Но кроме памяти о смерти есть и молитва. И созерцание красоты и смерти или - если хочешь - жизни и умирания. А что такое умирание?
- Конец, уничтожение сознания, распад функций.
- Неправда. Мы умираем все время, изо дня в день, понемногу. Смотри, у тебя уже седые волосы и у меня седые волосы, стынет кровь, слабеет зрение, печень садится, и сердце... Словом - живя, мы умираем.
- Я в состоянии это вынести. Но если бы у меня была перспектива мгновенной кончины, вероятно, боялся бы.
- Не гони волну.
- Ничего я не гоню - живу, читаю, работаю. Ну так сказки мне, какого рода отвагу рождают Соловки?
- Мне кажется, что это не проблема отваги.
- А чего? Согласия на неотвратимость?
- Наоборот, тропа не кончается.
- Ты часто повторяешь: “моя тропа”, пошел “своей тропой”. В этом слове есть нечто таинственное, прямо-таки метафизическое. Это не то же самое, что сказать: “пошел своей дорогой”.
- Слово тропа произошло от старой формы тропать - топтать. Тропу протаптывает человек или зверь. Используя это слово вместо “дороги”, я подчеркиваю необходимость протаптывать самому, а не следовать готовым путем. Вася говорит, что настоящий охотник ходит один и вытаптывает в тайге свою тропу, которая отражает его характер. Например, человек скрытный, угрюмый ходит оврагами, в тени, зарослями, зато весельчак ведет свою тропу опушкой леса, склоном, там, где много солнца. Так вот: когда пишешь жизнь, охотясь за словами, тоже через какое-то время вытаптываешь свою тропу - свой стиль.
- А когда ты напишешь следующую книгу?
- Наверно, снова через какие-нибудь восемь лет.
- Почему через восемь?
- Потому что Карелия еще больше, чем Соловки.
- Стало быть, едешь в Карелию? Прекрасно. А куда конкретно?
- Беломорканал, Онего, Ладога...
- С чего начнешь?
- С... Соловков.
- А как ты себе это представляешь?
- Как обычно: загрузим на яхту мешок жратвы, бочку шила - и в дорогу.
1 На пенопласте спали забастовщики в судоверфи.
2 В оригинале wilkolak - оборотень, превращающийся
Закопане-Киры, 1998-2001
Авторизованный перевод Вероники Градус




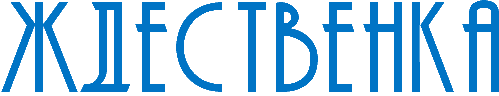
 ГЛАВНАЯ
ГЛАВНАЯ ТРУДОВИЧОК
ТРУДОВИЧОК МАСЛЯНИЦА
МАСЛЯНИЦА СОЛОВКИ
СОЛОВКИ ОТСЕБЯТИНА
ОТСЕБЯТИНА ХОРОВОД
ХОРОВОД ПОСИДЕЛКИ
ПОСИДЕЛКИ ГАЛЕРЕЯ
ГАЛЕРЕЯ КОНТАКТЫ
КОНТАКТЫ